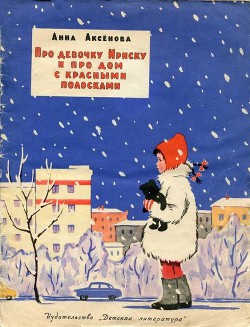вторая верхняя и обе боковые были заняты.
В соседнем купе ехала тоже военная семья. Женщина с двумя детьми и старой матерью. Та женщина — интеллигентная, красивая, была в красном из шелкового трикотажа платье. (От нее я и услышала, что шелк хорош тем, что на нем не держатся вши. Столько народу, война, мало ли… Видно, услышав ее, я и подумала про тамбурную женщину, что она боится вшей.)
Эта красивая женщина с детьми везла с собой большую банку черной икры. Два раза в день, когда разносили чай, она приносила к нам в купе, этой Злюке, бутерброды с икрой. Та принимала их как должное, хотя сама ничем не делилась.
Мы стали очень стесняться того, что мы «дачники», а не честные беженцы. По-моему, мама раскаивалась, что была так доверчива и рассказала нашу глупую историю. Но сказанного не воротишь, и мы принимали всякие притеснения как должное.
Освобождалась в вагоне полка — нам ее не давали, сажали новых пассажиров или удобнее размещались старые.
Чай нам не приносили под предлогом того, что мало стаканов. Злюка, настроенная против нас, настроила против нас и проводницу. А может, проводница тоже побаивалась ее?
Спать нам на одной полке было трудно. Мама отсыпалась днем. Хотя как уж она могла спать в шумном вагоне, когда в ногах сидели мы с братом, да еще и кормить нас надо было, и за кипятком сбегать, потому что одну, без подружек — а на этом пути у меня их не было, — она меня не отпускала.
Ночью мы с братом лежали валетом на полке, а мама садилась на полу на чемодан и своей спиной поддерживала меня, чтоб я не свалилась, потому что братишка спал беспокойно и часто дрался во сне.
Нам повезло: в наш вагон, в наше купе сел майор. Кадровый военный, он производил неотразимое впечатление своей выправкой, точностью и логичностью рассуждений, своими знаниями и даже… сапогами. Меня они просто сразили. Снаружи сапоги — как сапоги. Но изнутри! Розовая кожаная подкладка была нежнее и розовее девичьей кожи.
Майор быстро заметил непорядок в нашем купе.
— Почему так странно разместились? — спросил он.
— Видите ли, — усмехнулась Злюка, — они изволят с дачи ехать. Дачники, видите ли, выискались.
Он вопросительно посмотрел на маму, перенес взгляд на меня, на брата.
Мама покраснела и виновато подтвердила, что вот так все и есть на самом деле. Уехали на дачу, а попали в такую вот кашу…
И вдруг он стал на нашу сторону.
— Тем и страшна эта война, — прочел он маленькую лекцию, — что без всякого предупреждения, когда люди жили своей мирной жизнью, занимались мирными делами, работали, отдыхали… — и так далее, и так далее.
С тех пор Злюка подзаткнулась, спать ей пришлось с ребенком на одной полке, как, впрочем, стала спать и мама. А в мое распоряжение досталась верхняя полка.
И чай мы теперь пили наравне со всеми, потому что, когда проводница принесла ему чай, майор передал свой стакан маме. Проводнице ничего не оставалось, как принести чай еще раз.
Этот же военный, который взял некоторым образом нашу семью под свое покровительство, сказал маме: «Не рассчитывайте на скорый конец. Поезжайте куда-нибудь на восток, устраивайтесь попрочнее. Боюсь, что война затянется надолго». Злюка с подозрением посмотрела на него. А мама сразу ему поверила и долго вспоминала его слова.
И все-таки мы продолжали стремиться домой.
Грустно было расставаться с майором, потому что при нем мы чувствовали себя спокойно, уверенно и никакие злюки нам не были страшны. Наоборот, она сама теперь нет-нет да заговаривала с нами, и мама отвечала ей несколько прохладно.
Под конец произошел разговор, показывающий «расположение сил противников». Это как раз тогда Злюка поучала кого-то, что есть брюнеты, есть блондины, а все остальные — шатены.
— Ну почему же, — сказала мама. — Вот у вас, например, пепельные волосы.
— Какие пепельные? Что это еще за пепельные волосы выдумали? — аж задохнулась Злюка. — Я всю жизнь была блондинка.
— Ну если блондинка, то… серая блондинка, — уточнила мама.
Мила злорадно заулыбалась. Злюка же посмотрела на маму нехорошими глазами, но ничего не сказала, потому что майор, который тут же листал книгу, захлопнул ее.
— Простите, вы еще не убрали ваш нож? — спросил он маму.
Он ничего не просил у Злюки, все только у нас, чем заставлял ее каждый раз передергиваться.
Когда поезд остановился, майор помог сойти нам и проводил нас в здание вокзала.
…Утром мы проснулись неизвестно где — вывески с названием станции, как обычно, не было. Слышались расстроенные голоса, люди волновались, гудели, кто-то ссорился с проводницей. Оказалось, что ночью мы подошли к Малой Вишере и оттуда нас снова «спустили» вниз. Позже все выяснилось: впереди было Чудово и его только что заняли немцы. Ехать вперед означало попасть к врагу.
С юга нам не удалось проехать в Ленинград. Оставался восток.
Кажется, этим же поездом мы доехали до Горького.
— Может быть, нам здесь и остаться? — задумчиво сказала мама.
Мы сидели в каком-то пыльном сквере, проходили озабоченные люди, настроение было плохое: мы устали.
— Да ну, мама, чего тут хорошего, поедем домой, — сказала я, понимая, что мама говорит так просто.
И мы приехали не то в Буй, не то в Галич, чтобы теперь отсюда, через Тихвин, сделать попытку проехать в Ленинград.
Мы ездили взад-вперед, туда-сюда, туда-сюда. Как бы таранили Ленинград. Высаживали с одного поезда — садились на другой. Вперед. И опять назад. Ехали то в тамбурах товарняка, то на открытых платформах. Домой, домой!
Таких упрямцев, как мы, были десятки, если не сотни. Откуда было знать женщинам с детьми, мечтающим только об одном — оказаться наконец-то дома, что враг сжимает кольцо вокруг Ленинграда и что мы упорно рвемся как раз в этот узенький просвет не сомкнувшихся до конца клещей. В этот же просвет Ленинград спешил отправить в тыл, на восток, детей, стариков, ценности. Увозили раненых. А туда, в Ленинград, торопились ввезти продукты, снаряды. Солдат. Туда же, в кольцо, не догадываясь, конечно, о кольце, пытались прошмыгнуть и мы…
Мы ехали на открытой платформе, груженной рельсами. Сидели на этих рельсах, кутаясь в одеяла. Был уже сентябрь. Моросил дождь, тупой, бесконечный. Мама, завернутая с братишкой в одно одеяло, прижимала его к себе. У него начинался жар.
На этой же платформе ехала еще одна семья — женщина, бабка и мальчик лет тринадцати.
Я все время чувствовала на себе его взгляды. Это мне мешало. Я не выдержала:
— Чего смотришь?
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)